БАЙБУЗА Николай Сергеевич. ИЗБРАННЫЕ стихотворения.
Варяг
По русской тоске
смычками со смаком карябав,
оркестришко пришлый
был дальше кормиться готов...
Генштаб подзабыл,
в ресторациях пробуя крабов,
что лучшее лакомство крабов -
глаза моряков.
А там, на Востоке,
цыганские песни нелепы -
Андреевский Крест
умножил великое в нас.
А там, на Востоке,
уже отслужили молебны,
ударили в рынды -
и глянул на воинство Спас.
От края до края,
от краха до краха
и всё же -
до песни, до памяти -
неубиваемой, той,
где мы по смертям и победам
отчизны моложе,
но ровня и флагом, и кровью,
и солью морской.
За это и мстят
из местечек со злобой листовки;
казачьи нагайки со свистом
рвут кожу в ответ.
Казна и князья измельчали -
бессильны винтовки;
лакеям резона быть равным
лейб-гвардии нет.
...Столичная шваль
десертом салфетки марала.
Орлам на погонах
корону спасти не дано.
В бокалах шипело шампанское
на адмирала.
И крейсер "Варяг" уходил
от позора на дно.
Правила хорошего стога
Владимиру Фёдоровичу Бойко
Когда змеиногорская погода
тебя к мышам загонит на ночь
в стог,
по правилам великого народа
почувствуешь и Запад. и Восток.
Привет, отель, из клевера и мяты!
Привет, норушка!
Что ж ты обмерла?
О чём пищишь?
Мне жалобы понятны:
не слышать бы свирели и сверла...
Прав Монтескьё: ландшафт, сиречь природа,
не просто степи или суходол...
Хотел я глянуть дальше огорода.
Гром рявкнул мне: "Иди!" -
и я пошёл.
Я шёл на жизнь.
Постыдное начало -
рвать сапоги, тащась куда-нибудь.
Медведица мне в небе помогала,
вылизывала ярко Млечный Путь.
Но горы горя Древнего Алтая
бензопилой провыли:
"Ты - злодей!"
Земля юлила, небом утешая,
и я вгляделся в правила людей:
и в правила скорбящих иудеев,
которых жгли повсюду и всегда;
и в правила скупые для плебеев,
в которых вифлеемская звезда;
и в правила - чернеть медвежьим шапкам,
где правит бал туманный Альбион;
и в правила входить
казачьим шашкам
в чужой крестец
через чужой погон.
Разрублен мир
на бедных и богатых.
Рубцы границ дымятся в письменах.
...Считали деньги в каменных палатах,
чернел над книгой мудрости монах.
Опять в крови крыло совы Минервы.
Двадцатый век в конце путей лихих.
Восток и Запад натянули нервы.
Россия-мать, что в правилах твоих?
Есть правила: быть стогу и корчаге,
быть пахоте чернее, чем мазут;
есть правила оврага и бумаги...
Над пропастью по правилам идут...
А пропасть эта - русская натура
и клятая, и мятая не раз.
В ней всё: стихия, щедрость, диктатура
и слёзы над травинкой в смертный час.
То подаёт печатный пряник
(гостю),
то распрямит,
то - мордой по стерне...
Мне кажется торчащей в небо костью
любой из обелисков по стране.
Двадцатый век кончается.
И вроде
я вижу землю, колос и межу,
мышей в стогу,
послов в Алмазном фонде...
Россия.Ночь.Один в стогу лежу.
Песок не сжёг.
Болото не всосало.
В меду не утопил закон тайги...
Я молниями резал хлеб и сало.
Я облаками чистил сапоги.
Мой день восстал.
Он требует расплаты,
он раскалился злостью добела.
Мне мало силы
клевера и мяты!
Прощайте, мыши, у меня дела.
1996 - 2000 г. Барнаул - Саратов
Дорога на Псков
Николаю Михайловичу Гугляру,
русскому поэту
Я пространство России сибирским экспрессом рассёк.
Чем я к Западу ближе, тем родней и понятней Восток.
Взбунтовались козацкой фамилии тюркские звуки -
на востоке родня не даётся продажной науке.
Три славянские крови во мне не дожёг до конца хан Гирей.
Как татар поджигала зима в январях снегирей.
И во рту у меня полыхало славянское русское слово -
всё богатство моё чумаков-козаков и молчуна-зверолова.
Но ведь я не факир из бедняцких афганских песков,
Так и не научился огонь я глотать, слышишь, Псков!
Твоё имя: кресты, визг полозьев, дымы, стук подков...
Тяжелы языки твоих, Псков, не расколотых колоколов.
Да ещё - от плеча свист меча, да ещё от небес - плач метели
над Великим Поэтом в его Святогорской подземной постели.
Словно искры далёких пожарищ летят на Алтай снегири.
Удивительный памятник там - не поджечь! - танк тяжёлый и тёмный внутри.
Ни Варшаве, ни Праге не подставил доверчиво бок.
Он стоит на земле, от московских парадов далёк.
Танк от вальсов со смертью устал - и в стволе его пушки, без страха,
и живёт и поёт свои песни степная певучая птаха.
Если нам не до танков, почему же заметнее танков, мой брат,
праздник сук бриллиантовых на просторе кремлёвских палат?
Эти суки заметней кремлёвских наград и законов.
Эти суки Кремлю и России нарожали стоглавых драконов.
Мы последние, брат, кто не видит законы в гробу.
Визг "болгарки" пронзил. Что там режут - бетон ли, трубу?
То ли буквы из бронзы срезают, где главное, всё-таки, - "Слава..."
Нынче можно: и справа - налево, а хочешь - и слева - направо.
Голубеют береты неподкупных частей ВДВ,
Оттого, что поэты нужны не для всех, не всегда, не везде.
Не от жизни хорошей нужней в тесноте бэтээров солдаты.
Где же скрипок рыданье? Мы же скрипками были богаты.
Ждёт ответа Санёк Гамаюнов, Всевышним в Сибири храним,
полоснёт высоту - и не раз! - коршун лапой железной над ним:
"Ты родня и родной, ты свободен - от края до края!"
Вспомнит нас Гамаюнов Санёк, Русский путь наш без нас выбирая.
Псков, мы помним тебя - от икон до могил, от крестов до знамён над тобой.
Псков, ты слышишь? Нам общее горе хлебать не впервой.
Деревянной ли ложкой, серебряной, речь не об этом.
Мне десантник, похожий на Пушкина, машет небесного цвета беретом.
...Вот стою я в музее, пришёл не на бархат да шёлк поглазеть.
Эх, родня ты моя, в семь колен семижильная плеть.
Крик
Наши внуки за нас отомстят -
кто-то крикнул -
вы слышите, твари!"
и омоновца опытный взгляд
и меня, не касаясь, обшарил.
Полоснул и узбек
из-под век
острым взглядом над чёрным изюмом...
Сколько ж гнуться тебе, человек,
над богатством
пугливым, угрюмым?
Русских беженцев голоса
доведут от Кремля до нацизма,
чудотворцу Николе глаза
заливает кровавая схизма.
Умер стыд,
не сдаваясь рублю,
у ларька под названьем "Карина".
Чудотворцу свечу я куплю,
но терпение нас покорило.
Умер стыд,
а в динамиках смех.
И ни слова о Ное и Хаме.
Неужели открылись для всех -
жрать учась, как хазары руками?
Едко пишет по воздуху дым
над мангалом челябинской стали:
"Не учи - и не будешь судим
по законам Отары и Стаи".
Никого я не бил по глазам,
понимая и в доме и храме:
где бездарны правители - там
крейсера говорят с крейсерами.
Водку жрём на могилах отцов,
от бессилия правды зверея.
Русский крест - он лишь восемь концов
бесконечности Гиперборея.
Сжался гордый таджик над хурмой,
он не снизит базарные цены -
не Москвой он рождён, а апой -
пра-пра-правнучкой Авиценны.
Жир, инжир, курага...
Иногда -
Север любит пахучие травы.
Русским ближе без яда еда -
в этом выборе русские правы.
Почернеет от мести душа,
и без мести - и то почернела.
Но качается ствол "калаша" -
у омоновца важное дело.
...Хрустнул перстень в пятнадцать карат,
давят сумерки цвета рейнвейна:
где юлил казуист-дипломат -
там пехота прямолинейна.
Актёр
Работа у него - не корм давать в корыте,
а наливать в бокал и стерву звать в постель...
В гримёрке у него портретик Нефертити,
живёт, где окна бьют и двери рвут с петель.
Пусть критики шипят, перевирая имя,
не лгали - ни Мольер, ни арфа, ни гобой...
Не волей, не хребтом, а чувствами святыми
он поднимал себя и поднимал собой.
Но улыбался бас из оркестровой ямы,
и маргинал поэт дарил в альбом стишок.
А в том стишке, увы, не пушкинские ямбы.
Окончится спектакль, останется ожог.
И грамотку дадут по факту юбилея,
но даже подшофе друзьям не скажет он,
что снился белый конь - степных снегов белее.
Наденет чёрный фрак и выйдет на поклон.
Не вечны силы гнуть и для искусства спину
и подбирать цветы со сцены до седин.
Но дали свет в партер, он глянул в середину -
там ели шоколад, но был в слезах один.
Песня стременного
Юрию Жуку
Что он сделал со мной, зараза,
почему запел без приказа,
душу вывернул - и на крюк!
Я ж привык к городскому бетону,
слышу лишь воробья да ворону,
вижу псов-медалистов да сук...
"Эх, десница моя перебита,
без меня косит тятенька жито,
я ему подмочь не могу.
Не нужна безрукавна обнова,
дайте мне мово вороного
прогулять его в поводу.
Ох, чиста в кринице водица,
напоить коня из криницы
я смогу и левой рукой.
Ах, сестрица моя, сестрица,
ах негоже на брата сердиться,
вороного попоной укрой.
Коли колос тяжельше патрона
и граница не шире погона,
и ковыль не достал до стремян -
само время до хаты вертаться,
с родной матушкой навидаться,
где слова про любовь не обман..."
Так он пел - и пахарь, и воин.
С песней воли я сладить не волен,
я запомнил широкий лампас.
Так он пел, и певучая сила
то давила, то возносила
до того, что осталось от нас.
Не суди меня, родина, строго,
что опять веду до порога
не коня, а беду в поводу.
Песня - воля, песня казачья,
песня - лихо, песня - удача
то на дыме, то на меду.
Помоги нам, Господь, сохраниться,
где проходит наша граница
между сердцем и пятернёй.
Стремя памяти не почернело.
Не серчай, что помог не умело
песне-воле, спасённой тобой.
...А казак
улыбнулся устало
и нарезал тонюсенько сало -
нам женьшеневка нынче не всласть.
Казаков - наших братьев - помянем,
где над хрюканьем сытым кабаньим
расцветает тигриная пасть...
Гитара-сирота
Выпала гитара из рук.
Навсегда ушёл старый друг.
Не прощаясь, как на вокзал.
Ничего в дорогу не взял.
Много ли на небо возьмёшь,
всё богатство - струнная дрожь.
Да ещё поля и леса,
да родных людей голоса.
От шестой до первой струны
все мы перед небом равны.
Первая струна всех больней -
материнский плач у дверей.
Отзовётся третья второй,
словно другу друг дорогой.
Пятая с четвёртой нежны,
как в снегах сибирских княжны.
А шестой струны добрый бас
Господу напомнит о нас:
"Выпала гитара из рук,
стал землёй родной старый друг,
на земле оставил для нас
о любви короткий рассказ.
На гвозде гитара живёт
и в чужих руках не поёт."
...Разрыдался гром в небесах.
Земляникой пахнет в лесах.
Жёнам друзей
...Нам тоже не сидеть
на золотом крылечке,
наш белый конь - туман
без проклятой уздечки
не чуя наших рук,
не видя ваших глаз,
под окна подойдёт,
когда не будет нас.
Вы помните слова:
не только хлеба ради?
Но корчатся в ночи
заветные тетради, -
они ещё не раз
погонят в сторожа...
Сонет подешевел -
и хлеб подорожал.
Простите же вы нам
забавы без отравы,
вы правы навсегда -
и днём, и ночью правы.
За злость на суету,
за клочья тишины -
мы права не любить
любовью лишены.
А если холод мы,-
а чаще речь об этом -
кровь прогудит ещё,
что мы чета поэтам,
которым под топор
и немоту - не лечь!
...Ресницами сосны
топите жарче печь.
Сыну Богдану
Не всё на свете шито-крыто,
продажно, проклято, избито, -
о том и над свиным корытом
дрожит Полярная Звезда.
Поглядывай же иногда.
Я закрываю книгу боли,
ты открываешь книгу воли:
она для тех, кто обездолен,
обобран, сломан, нелюбим.
А заплутаешь в поле диком,
не оживляй меня ты криком -
зажги её,
и зрячий дым
покажет путь к моим родным.
Имперский гул
Omnia ana
...Луком накормят солдат перед битвой -
равны ряды легионов, но
слово мудрых предков забыто;
силой Рим спасти не дано.
Много болтали в роскошных термах:
"...больше рабов, а не библиотек;
сила в тюрьмах, а не в теоремах;
гладиатор - не человек..."
Легионер - красавец безусый -
лет пять не увидит отца и мать,
из граната невесте подарит бусы
и уйдёт в Иудею за Рим умирать.
Подавится Рим чужою землёю!
Статуям встать, а солдатам лечь.
Пожары с гулом удушат золою
плач детей под чужую речь.
Цезари вымрут!
Женоподобность
расшатает стены казарм когорт.
Империя, ты куда припёрлась?
Прокуратору фаллос затыкает рот...
Что толку,что в проклятой Иудее
легионер храбрей своего отца?
Тыл прогнил. Ростовщик наглеет.
Сестерций бессилен. Пусты сердца.
Под чужаками матронам охать...
Останутся с выродками заодно
голубого разврата гнилая похоть
и неразбавленное вино.
Великий Рим! Где твои книги?
Память короче твоих мечей.
Триумф!
А в зерне триумфальной квадриги -
зараза, тобой завезённых клещей.
Слышу гул...
Я, потомок росса,
в память впускаю сарматский нож:
глянет правнук на прадеда косо
и не поймёт - на кого похож...
Вторая Речка
Я к просторам родины привык.
Тыща вёрст в России - недалечко.
Букву "Р" - топорик под язык -
прячет от меня Вторая Речка.
Океан у ног моих не стих,
волны выговаривают "рашен".
На путях запутанных моих -
тот, который на чужбину страшен.
Задевая носом за мороз,
с вечной скорбью
в скарбе эмигранта,
кто-нибудь и зло отсюда вёз...
Брякай, погремушка эсперанто!
Станция Большая Речка
...Тихая моя, Большая Речка,
ты всегда от сердца недалечко.
Как же мне всего минуток пять
на твоём крылечке постоять?
Чистая моя Большая Речка -
тропка от крылечка до крылечка...
Будет май.
И в мае письмецо -
от меня заветное словцо,
что когда гремел мой поезд мимо,
не туда, где всё неповторимо,
лёгкий крестик ласточки в окне
прибавлял всё милое ко мне.
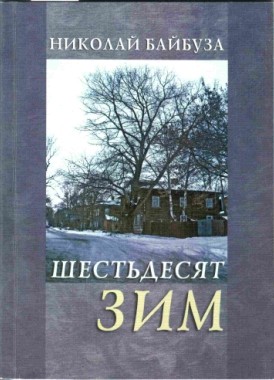
Байбуза Н.С. Шестьдесят зим. Стихи. Русскiй мiръ. М: 2007. – 80 с.
Родословная
От ключицы до седла
шел клинок наискосок.
Родословная текла
с конской гривы на песок
Кто тебя, моя родня,
Резал, рвал, топтал и жег?
Смотрит ворон на меня,
вперил огненный зрачок
Пуля-дура не права.
Сабля острая слепа.
Где, когда, что за трава
обсосала черепа?
Не носить мне дым папах –
в этом нет моей вины,
придавил Чумацкий шлях
колесом большой луны.
Дай, Полтава, мне тепла,
смой дорог далеких грязь!
Родословная текла,
да в Сибири запеклась.
Разговор в тишине
Любимая,
не надо о годах.
Года не в силах
силы мне прибавить -
Я молодость истратил
не в забаве -
ты видишь:
сколько шрамов на руках?
Любимая,
на перепутье дней
я становлюсь
добрей и непреклонней.
Давай накормим снегирей
с ладоней
не дожидаясь
белых лебедей.
Сонет
Конечно, время нас сотрет,
Жар-птицу превратив в жаркое.
Пчела отдаст последний мед
и вмерзнет в небо голубое.
Зачем же в спорах предок мой
рвал на груди свою рубаху?
Не время стать надежде прахом,
друзьям - толпой, жене - вдовой.
Пусть я смешон и одинок
братаю Запад и Восток,
мирю голодного с раздетым.
Мир без Tвopцa, как отчим строг.
Кровь воинов всосет песок.
Сонет останется сонетом.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ САРАТОВ, №1, 2010
ПОЭЗИЯ_________________________________________
Николай Байбуза
НЕПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ
Полковнику А.Н. Васильеву
Он ходит на высокий берег,
он к небу поднимает взгляд
И там – не бисером потерек,
с ним крупно звёзды говорят.
Он точно знает: в этом мире
людских потерь не перечесть.
Картошка – да и та в мундире
в его стране была и есть.
Измята шляпа и потёрта –
и теплоходы потому
кусками праздничного торта
плывут сегодня не к нему.
Блестит луна солдатской пряжкой;
сияет лычкой Млечный путь...
Ему любовью чистой, тяжкой
друзей любимых не вернуть.
Иван не забывает Марью,
откроет свой альбом, а в нём –
всё то, что не отхватят сталью,
всё то, что не согнут огнём.
И навсегда родные лица
роднее в серебре зимы.
Война. Победа. Май, Столица –
и выше всех знамён – дымы!
Ударит по фанерной даче
ветвями яблоня больней,
больней, чем сталью, не иначе,
но речь сегодня не о ней.
Подумается напоследок:
мой мальчик не холоп, не тать,
он яблоки с высоких веток
неклёванными будет рвать.
Какой банкет? Какие виски?
Нам и Арбат не шарм, а шрам.
По-русски, да и по-английски
164
___________________________________Николай Байбуза
просить о помощи? Не нам!
Что нам дано, даётся свыше,
попробуй в это не поверь.
Бьёт август яблоками в крыши –
в стране, просторной от потерь.
1946 год Михаилу Муллину
В новый мир со второй мировой
возвращались солдаты домой.
Вёз родне интендант куль с крупой.
Вёз разведчик ТТ именной.
И солдатки солдатам кричали:
– Моего... моего... не видали?
Пахло дымом рурских углей
на вокзалах России моей.
...Тридцать лет пролетят над землёй.
Будет случай со мной вот такой:
на Девятое мая, к обеду,
позову я отметить Победу
тех, двоих, что до дома довёз
чёрный с красным довёз паровоз.
Стол накрою. Поставлю закуски,
Всё, как надо, – от сердца, по-русски.
Будут гости, почётнее нет:
очевидцы потерь и побед.
В дом войдут мои гости
и строго
всё, что в доме, оценят с порога:
– Сразу видно, живёшь кое-как,
не умеешь копить про запас,–
скажет мне интендант, –
ты дурак.
А разведчик мне руку подаст.
Расславянимся за столом
и про синий платочек споём.
Про платочек, который вперёд
вёл нас до Бранденбургских ворот.
Хватит мне до последнего дня
и того, что копил для меня
165
Николай Байбуза___________________________________
год голодный, но всё-таки мой,
не дрожа над мешками с крупой.
Там рубаху солдатскую рвёт
для меня на пелёнки хозвзвод
Там разведчик в музей краевой
Отдаёт свой ТТ именной.
Там прописан я твёрдой рукой
не в Москве – у страны за душой...
ПЛАЧ ПО МОРСКОЙ ПЕХОТЕ
Вы лучшими были,
мы так и запишем в скрижали.
Но выжили карлики,
а вы – двухметровые – пали.
Под чёрным сукном
белоснежное чувство родного.
Другим рассчитаться
на первого и второго
У вас было сердце большое –
не промахнуться.
Мы тоже не гнёмся,
но можно над гробом согнуться.
Прощайте, морпехи!
Россия от горя оглохла.
Чем вашим родным
потери оплатит эпоха?
Тускнеет в домах
сиротских побед позолота.
Уходит, уходит под землю
морская пехота.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ТАНКА
Виктору Гергиевичу Выборову, танкисту и фотохудожнику
Городу виден весь,
встал, себя не тая.
Это – тяжёлая весть,
Родина ты моя.
Здравствуй, железный брат
166
Николай Байбуза___________________________________
с номером на броне.
Рад тебя видеть, рад
с Отчиной наравне.
Ты домой насовсем.
Память людей коротка.
Сам не знаю зачем
сфоткаюсь у катка.
Больно. А где Иван?
Тот, ясноглаз и рус?
Может, победой пьян,
крутит пшеничный ус?
Может, в бою ослеп,
Может, за Польшу лёг?
Горький солдатский хлеб
водкой запил дружок?
Дота поганый рот
разворотить помог?
Готика ототрёт
огненный твой плевок.
Мудрый немец простит –
Дойчланд теперь одна.
Фридрих в могиле спит.
Фёдора кость видна.
Мы тяжело живём.
Впрочем, ты видишь сам.
Били и бьют огнём
по голубым глазам.
Слышу солдатский мат
под золотишка звон.
Стрелами новых карт
русский простор пронзён.
К танку житухой прижат,
жизнь понимаю так:
если хлеба лежат,
ствол поднимает танк.
Будет буянить май,
будет платок в горсти.
Больше не обещай
кровью меня спасти.
167
 СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ
СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ